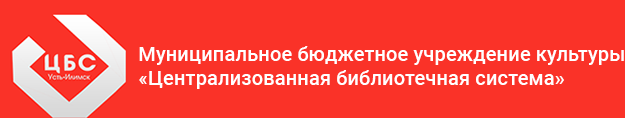Белой акации гроздья душистые…
- В 15 километрах от областного центра Проскуров (так до Великой Отечественной войны назывался Хмельницк) по шоссе в сторону Киева, а по грунтовой дороге в 10 километрах - стоит село Пашковцы. На краю села, близ опушки леса, и до сей стоит поры дом моих родителей. 22 июня 1941 года, раным-рано, на рассвете, когда за окнами только серело и еще не пели первые петухи, мама, сестренка Маруся 10-ти лет, годовалая Дуся и я, 4-летний хлопчина, проснулись от страшного гула в небе и дрожания оконных стекол. А спали мы на печи, где звук, идущий с неба, усиливался через трубу и дымоходы. Мама быстренько постелила нам на полу, под лавками. Маруся в начале отказывалась лечь на пол, но потом сама соскочила со словами: «Мама, гудят страшно!». Потом, когда уже кончилась война, а я пошел в школу, услышал песню: «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война» - и сразу вспомнил тот гул и понял, что в то утро немецкая авиация шла на Киев. В нашем селе до войны не было радио, и утром 22 июня 1941 года никто не знал, что началась война. Мама подоила и выгнала в стадо корову, занялась с Марусей делами по хозяйству. Я выпил кружку молока и побежал обследовать опушку леса. На ней рос куст белой акации, у которой гроздья были не только душистые, но и сладкие. Деревенские дети ели их вместо лакомства. Я соображал, как нагнуть высоко расположенную цветущую ветку, когда в село' с треском, поднимая клубы пыли, въехали мотоциклисты в военной форме, в касках и очках. Они остановились у крайней хаты, где жила семья моего дяди, спрыгнули с мотоциклов, схватили палки и стали бить гуляющих у дороги кур. Затем, держа куриные тушки за ноги, они стали совать их выбежавшей за ворота хозяйке, что-то приказывать на незнакомом языке. Я изумился увиденному, со всех ног бросился домой к матери. Та с первых моих слов кликнула Марусю и все вместе мы загнали кур в сарайчик, заперли его на засов. Также мама закрыла калитку, приказала всем сидеть тихо в куточку, на улицу и носа не показывать, и чтоб во дворе- ни звука. Со двора я видел, как огородами, пригибаясь и оглядываясь, к соседней хате пробрался солдат, как вбежал во двор. А, считай, следом туда вошли немцы, вывели того солдатика со связанными сзади руками, под дулами автоматов повели к лесу. Раздались выстрелы, солдат упал. Потом пришли пашковские селяне, наспех, под присмотром чужих вооруженных дядек, выкопали яму, похоронили расстрелянного солдата. Из коротких разговоров взрослых я понял, что село заняли немцы, это они расстреляли нашего молоденького солдатика. Видно, он прорвался сквозь окружение, хотел укрыться до ночи в какой-нибудь хате, но не успел ни глотка воды сделать, ни переодеться. Спустя какое-то время я узнал, что всех мужиков села, кто был способен работать, немцы собирают и куда-то отправляют. С понурыми лицами, под конвоем эти люди прошли нестройной колонной мимо нашего дома куда-то за село. Когда уже шли полем, один из них вдруг рванулся и побежал быстро-быстро в сторону леса. Раздались выстрелы, мужчина упал и больше не поднялся. Потом пришли пашковские селяне, наспех, под присмотром чужих вооруженных дядек, выкопали яму, похоронили расстрелянного солдата. Из коротких разговоров взрослых я понял, что село заняли немцы, это они расстреляли нашего молоденького солдатика. Видно, он прорвался сквозь окружение, хотел укрыться до ночи в какой-нибудь хате, но не успел ни глотка воды сделать, ни переодеться. Помню, мама с утра куда-то ушла, а мне наказала сидеть в хате, на улицу не выходить, а то немцы заберут. И вот я сижу, чем-то пытаюсь себя занять. Вдруг дверь хаты открывается, радостно вскидываю голову: «Мама пришла!». Но нет, на пороге стоит немец в форме и держит в руке неизвестный мне металлический предмет, клацает им, жужжит и что-то говорит, показывая на волосы. А они у меня отросли и висели патлами. Немец попытался меня привлечь к себе или взять на руки. Я ловко увернулся и отбежал, прячась за стол, скрыню (сундук), лавки. Мне не было страшно, но и в руки немцу я решил ни за что не даваться. Так мы с ним играли в кошки-мышки, пока он не изобразил руками жест: сдаюсь, и не присел на корточки. Я посмотрел ему в лицо и с удивлением увидел, что оно не злое, что человек этот смеется. Он расстегнул нагрудный карман гимнастерки, достал фотографию, на которой были дети, и я услышал незнакомое слово «киндер». Немец жестами показывал, что у него тоже есть дети, что он что-то хочет сделать с моими волосами. После войны в городской парикмахерской я увидал машинку для стрижки волос и вспомнил, что именно такой предмет и держал немецкий солдат в руках, рассказывая мне о своих «киндер». Видя мою несговорчивость, немец ушел. А когда вернулась мама, я все ей рассказал, она отыскала ножницы и остригла меня «под лесенку».
Дети по-другому, чем взрослые, переживают беду. Я не помню чувства страха или горя. Было только какое-то переживание о маме, потому что она не улыбалась, будто тень лежала на ее лице, такое оно было грустное и задумчивое. По вечерам она гладила меня и Марусю по волосам, прижимала маленькую Дусю к груди и, как бы ни к кому из нас не обращаясь, говорила: «Дитки-дитки, де наш батъко?» Детским сердечком я сознавал, что мама грустит, по-украински журытъся, по отцу. Его за полгода до начала войны, как знатного на всю округу плотника, демобилизовали на работы по укреплению границы с Польшей. В районе, где велись эти работы, немцы как раз и смяли оборону наших войск в ночь на 22 июня 1941 года. Неизвестно было, жив ли отец? Погиб? Взят в плен?
В одну из ночей отец пришел домой. Всю оккупацию он скрывался в укромном местечке подворья, лишь изредка выходя по ночам на улицу. Мы, дети, знали об этом и всю оккупацию молчали: никому о том ни слова ни полслова. Понимали, что это может стоить ему жизни. После оккупации многих селян, кто вынужденно, под страхом смерти работал на немцев, привлекли к уголовной ответственности. А наш отец в сотрудничестве с немцами замешан не был. Из-за серьезного повреждения руки его не взяли в армию, а направили на восстановительные работы. Впоследствии он был награжден медалью «За доблестный труд». Но до этого надо было еще дожить.
В нашей местности немцы не зверствовали, карательных операций не устраивали. Разрешали держать скот, сажать огороды. Конечно, все здоровые девушки и парни с 14 лет были угнаны в «арбайтенлагер» в Германию. Каждый день немецкие интенданты собирали по дворам свежие «яйко, млеко, масло», но что-то оставалось и хозяевам, перепадало детям.
Весной 1944 года перед наступлением наших войск на Проскуров немцы велели всем жителям села взять самое необходимое, собраться вместе и выполнять их команды. Нас построили впереди немецких войск и велели идти на Проскуров вдоль шоссе. Как я сейчас понимаю, они использовали нас, как живое прикрытие. Советская авиация в стороне от дороги билась с немецкой. Не раз по команде немцев мы кидались в кювет, падали в грязь и талую воду, закрывали голову голыми руками и молили Бога, чтоб пронесло, потом по команде поднимались и опять шли впереди немецкой колонны. Мне уже было семь лет, и я со старшей сестренкой Марусей помогал маме нести четырехлетнюю Дусю. К ночи нас, перепачканных грязью с головы до ног, промокших, вымотанных, привели на окраину Проскурова, завели на мебельную фабрику. Помню огромное пустое помещение, горы стружек, на которые мы попадали и провалились в сон.
Еще не рассвело, когда нас, детей, подняли взрослые со словами, что немцев нет и надо спешить домой. Ночью подморозило. В Пашковцы мы возвращались по грунтовой дороге, которая вела через соседнее село, где жила наша родня. Решили хоть ненадолго заглянуть к родичам, обогреться, подкрепиться. Хата оказалась заполнена такими же, как мы, людьми. Среди них мой отец. Мы не успели слова сказать друг другу, как раздался стук в дверь, в окно было видно, что на пороге немцы. Все были в страхе. Женщина рядом с нашим отцом сняла с себя платок и повязала голову отца. Немцы зашли, окинули взглядом собравшихся людей, указали на мужчин и куда-то их увели. Отца в платке они, конечно же, приняли за женщину, и не тронули. Домой мы возвращались всей семьей.
Последняя картина войны такая. Воздушная тревога. В небе над селом гул самолетов. Удар в стену нашей глинобитной хаты, стена с треском проламывается, а в дыру на кровать падает огромная черная авиационная бомба. Отец берет какие-то тряпки, обматывает бомбу, говорит, что она невероятно горячая, жжет, и уносит в конец огорода, в заросли малины. Когда советские войска проходили через Пашковцы, они взорвали эту бомбу. И еще было страшное эхо войны. Мы, мальчишки, возвращались со школы, нашли бомбу. Товарищ стал тут же откручивать взрыватель. Я пытался ему сказать, чтобы он этого не делал, а он продолжал крутить. Тогда я вспомнил какое-то поручение мамы и со всех ног кинулся его выполнять. Только успел отбежать, как рвануло с такой силой, что и я не устоял на ногах, а ребят, что остались у бомбы, подняло взрывной волной. Того, кто откручивал взрыватель, собирали по кусочкам, остальных удалось спасти. Такое эхо то и дело прокатывалось по местам, где прошла война.
Грищук, Н. Белой акации гроздья душистые…: [воспоминания о военном детстве рук. украин. культур. Центра «Черемшина» Николая Грищука / записала Надежда Зинченко] // Вестник Усть-Илимского ЛПК. – 2010. - 7 мая. – С. 3 : фот.