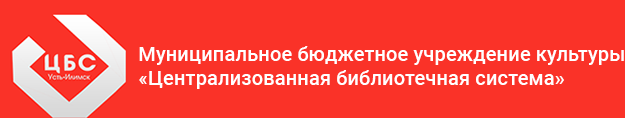22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. В этот день 69 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. С этой даты историки ведут отсчет начала Великой Отечественной войны. Невольными участниками ее страшных событий были дети. Наряду со взрослыми они гибли под бомбами, умирали от ран, голода и болезней в тылу, оккупации и концентрационных лагерях. Узником Саласпилса, Освенцима, а потом сталинских лагерей был и наш земляк Виктор Степанович Ефимов, участник пуска и освоения мощностей целлюлозного производства в Усть-Илимске, а сегодня – алтарник Свято-Софрониевского храма. Ниже читайте его воспоминания.
Завтра началась война
- Отец мой, Степан Федорович Ефимов, был кадровым офицером. Мама, Мария Григорьевна, - военным фельдшером. В 1935 году 90-й танковый полк, где они служили, перебросили с Урала в Запорожье. В вагоне, на участке железной дороги «Воронеж – Запорожье», я и появился на свет. Вскоре из Запорожья родителей перевели служить в Брест. В июне 1941-го наш детский сад выехал на дачи. Там отдыхали и мои сестренки: 4-летняя Тая и 8-летняя Люда, которая окончила первый класс. А мне уже исполнилось 6 лет. Накануне войны, 21 июня, был теплый вечер, мы накупались в речке и после ужина крепко уснули в палатках. Проснулись от гула самолетов, взрывов, огня и дыма.
Наверное, немцы приняли наш детский лагерь за воинское подразделение и нещадно бомбили с воздуха. Прятаться и бежать было некуда. Немецкие самолеты на бреющем полете сбрасывали бомбы, которые взрывались, рассеивая тысячи осколков. Все вокруг горело. На моих глазах детей и взрослых убивало, разрывало на части, присыпало землей. Руки, ноги, спина, грудь, живот у меня и сестренок были изранены мелкими осколками. Из 60 детей и двадцати взрослых в живых осталось 14 человек. Я оцепенел от ужаса и боли. Потом бомбежка прекратилась, и в лагерь въехал танк со звездочкой. Все, кто был на ногах, кинулись к нему. В танке оказался мой отец. Он быстро всех живых загрузил в танк, куда только можно загрузить, и вывез в Брестскую крепость. Помню, в каземате, где был устроен госпиталь, было полно раненых. Мама в белом халате кому-то делала перевязку или укол. Она оглянулась, увидела меня, вскрикнула: «Мальчик мой, сынок, ты весь седой», - и упала в обморок.
Папа где-то воевал. Мама все время пропадала в госпитале. Было такое впечатление, что день и ночь с неба падали бомбы, гремели взрывы, свистели пули, все горело. В короткие перерывы мы, дети, выглядывали на улицу: земля была пропитана кровью, лежали тела убитых и то, что оставалось от человека после попадания авиабомбы или орудийного снаряда. Не помню, утро было, день или вечер, когда кто-то сказал, что поступило распоряжение: женщинам и детям сдаться на милость врага-победителя. Нас было совсем немного, женщин и детей, способных передвигаться. Мы вышли на открытую и ровную местность, где поодаль стояли люди в военной форме, мотоциклы с колясками, танки. От страха мы застыли, казалось, что от напряжения дрожит воздух. Мама держала Таю на руках, а мы с Людой прижались к ней по бокам. Нас осмотрели, построили в колонну и приказали идти. Мы шли и шли по краю дороги, а рядом шел немецкий конвой. С наступлением вечера по команде остановились и легли прямо на землю. Еды и воды нам не давали. Дальше оцепления нельзя было сделать и шага. Тех, кто его сделал, тут же расстреляли. А утром расстреляли тех, кто не мог идти. На каком-то участке пути нашу колонну бомбили с воздуха. И опять многие женщины и дети погибли, были ранены, искалечены. Маму, меня и сестренок опять ранило осколками. Когда все стихло и немцы закричали «Штейн аух! Шнель! Шнель!», что значило «Всем встать! Быстро! Быстро!» - тех, кто не мог идти, расстреляли. Мама одной рукой держала маленькую Таю, другой прижимала нас с Людой и одними губами шептала: «Маленькие мои, родные, надо идти. Надо идти». Колонна двигалась, оставляя на земле кровавые следы. Жители близлежащих сел выносили вареную картошку, бутылки с водой. Кланяясь до земли, они жестами просили у конвоиров разрешения передать нам еду и питье. Глаза их были полны боли, по щекам текли слезы.
Саласпилс – Освенцим
- Не знаю, сколько нас так гнали, примерно две недели. Слышал, как кто-то из взрослых сказал, что уже август, когда пригнали в Латвию, лагерь Саласпилс. Какое-то время нас держали за колючей проволокой, а потом детей оторвали от матерей, увели в какое-то помещение. Там нас осмотрели, распределили по возрасту, измерили рост, вес, посмотрели цвет глаз, волос. Всех, кто ростом был ниже метра, у кого были карие глаза и темные волосы, отставляли в сторону. Всех их потом расстреляли или сожгли в печах крематория. Белокурых, голубоглазых и рослых, в число которых попал и я с сестренками, увезли на железнодорожную станцию, набили в вагоны и повезли в Германию. Это сейчас я знаю, куда нас повезли, а тогда я понимал одно: плакать, спрашивать: «Где мама?», просить пить и кушать – нельзя, разговаривать - нельзя, ничего нельзя, иначе злые дядьки и тетки будут больно бить и могут убить совсем. Поволокут за ноги и бросят вниз головой в ящик в тамбуре. Многие из детей умирали в вагоне по пути от Саласпилса до немецкого города Освенцим, где был устроен лагерь для пленных. С поезда в крытых машинах нас привезли в лагерь, огороженный колючей проволокой, построили в шеренгу, отобрали самых слабых. Я тоже оказался в их ряду. Но потом немец-надсмотрщик увидел у меня на шее веревочку с образком и отвел в сторону. Эту металлическую иконку я как-то после бомбежки нашел в развалинах Брестской крепости. Крепко зажал в кулак, потом приделал к ней ушко, вдел веревочку и повесил на шею, чтоб не потерялась. Я вообще тогда не знал, что есть Бог и святые и что моя находка называется иконой. Но какая-то сила, мысль или голос мне подсказывали, что добрый дедушка с длинной бородой «на картинке», так я называл образок, защитит меня, маму и сестренок.
Меня разделили с сестренками и вместе с сотнями других детей перевели в детское отделение Освенцима - Броккартен, в так называемый «Биринуаф», блок №15. Мы жили в деревянных бараках с нарами в три яруса. По ширине на нарах вмещалось три ребенка, по длине – девять. Спали так: ноги первой тройки к головам второй, ноги второй – к головам третьей. Никаких матрацев и одеял. Халат из мешковины или мешок с отверстиями для головы и рук служили нам одеждой зимой и летом. Первое
время к нам был приставлен для присмотра еврейский священник из узников - раввин. Он нас не обижал, разговаривал спокойно, все объяснял. Потом его не стало, а нашим «воспитанием» стали заниматься надсмотрщицы, их называли «капо», из наемных немок и пленных словачек. Эти нас люто ненавидели и жестоко избивали. Утро начиналось со злого окрика-команды «Штейн аух!», что значило «Встать!».
Многие дети умирали ночью и оставались лежать. Их тела стаскивали, кидали в бочку с раствором хлорки, а потом сжигали. А мы, живые, обтянутые кожей скелеты, с наголо обритыми головами, провалившимися и полными страха глазами, строились рядами. Грозным голосом капо или немцы-надсмотрщики в военной форме кричали: «Вер ист юден? Ком цу мир!» - «Кто еврей? Выходи!». У маленьких узников-евреев на груди были нашиты шестиконечные оранжевые звезды – шесть сложенных крест-накрест оранжевых полосок. По команде «юден» делали несколько шагов вперед и застывали. А лагерники зло всматривались в лица детей без звездочки, высматривали с карими глазами, с ненавистью кричали: «Вас ист дас? Юден?!» ( Что это? Еврей?). Их выволакивали из общего строя и ставили в шеренгу к «юден». Каждый день десятки и сотни детей с оранжевыми нашивками на рубашках и похожих на «юден» уводили в газовые камеры или сжигали в крематории.
Святое крещение
Среди взрослых пленных был православный священник из Белоруссии. Он старался окрестить как можно больше ребятишек, особенно тех, кого отобрали для отправки в газовые камеры или крематорий. Крестильной чашей служил железный тазик с водой, миром для помазывания – олифа или какая-то жидкость, похожая на масло. Потом кто-то донес немцам на этого человека. Его страшно пытали, замучили до смерти и сожгли. Взрослым и детям объявили, что так будет с каждым, кто есть «юден» или не будет повиноваться вермахту. Много лет спустя, уже в Усть-Илимске, я спросил о. Александра Белого, действительно ли мое крещение в детском лагере Освенцим? Он не взял на себя смелость судить что-либо по этому вопросу и задал его архиепископу Иркутскому и Ангарскому Владыке Вадиму. Тот ответил, что тот узник-священник - великий мученик и святой человек, хоть и не явленный миру. И что мы, грешные, не вправе что-либо исправлять в его действиях, даже если они выполнялись с какими-то отступлениями от установленного чина таинства крещения.
Страшный дядька Йозеф Менгель
- В Биринауф действовала лаборатория известного фашистского биолога Йозефа Мегеля. Пленные, взрослые и дети, служили материалом для его опытов. Нам вживляли в мозг электроды и испытывали рефлексы. У нас выкачивали из вены кровь и вводили какие-то жидкости. Нам прививали инфекционные болезни и вкалывали первые антибиотики. Мы покрывались сыпью, язвами, слепли, глохли и умирали. Нас разогревали, потом погружали в ванну с водой и, постепенно понижая температуру, замораживали.
Потом размораживали и наблюдали, что с нами происходит: замеряли температуру, пульс, давление, смотрели цвет склер, размер зрачков, состояние языка, мышц, внутренних органов… Самыми страшными и болезненными были опыты на позвоночнике. Огромный шприц вонзали в межпозвонковые диски, что-то вводили, выкачивали мозг... Истощенные и обессиленные, мы инстинктивно трепыхались, бились в конвульсиях. Нас держали или привязывали. Я очень хорошо запомнил доктора Йозефа Менгеля: мужчина лет 40, среднего роста, волосы темные, лицо бело-розовое, гладко выбритое, глаза голубые и такие холодно-испытующие, пронизывающие насквозь. Он и сейчас иногда приходит ко мне во сне, удивляется, что я жив, и что-то хочет сказать, но я в детском страхе, какой переживал в Освенциме, просыпаюсь.
…Однажды летом прошел дождь, а вместе с ним на лагерный двор нападало много маленьких зеленых лягушек. Мы наклонялись над лужицей, хлопали по ней ладошкой, лягушки выпрыгивали, мы их хватали за задние лапки, раздирали надвое и жадно проглатывали. Малышня от двух до пяти лет облепляла нас, хватала за руки, за ноги… Все готовы были съесть все, что двигалось или шевелилось. От голода, холода, страха,
побоев и опытов мы забыли свои имена, родителей, братьев, сестер, страну, откуда родом. Мы забыли свой язык и понимали только немецкую речь. Мы были живыми тенями с инстинктом страха и рефлексом голода и происходящее воспринимали так, будто все это должно быть.
Мама, я забыл имя свое!
Обессиленных после выкачивания крови, спинного мозга или опытов детей отбирали и отправляли в крематорий. Не помню, сколько раз меня ставили в их шеренгу, но всякий раз кто-то из немецкой охраны, увидев у меня на груди образок, выводил из нее. Однажды после замораживания мне привили тиф. Я умирал. Была ночь или у меня в глазах было темно... И вдруг крыша барака исчезла, открылась небесная сфера и надо мной склонилась необыкновенной красоты женщина, от которой исходило сияние. Она смотрела на меня с невыразимым сочувствием и любовью. И она так была похожа на мою маму. Да, я вспомнил маму! Перед глазами, как в кино, поплыли кадры: Саласпилс, колючая проволока, очень хочется кушать, мама подсовывает мне и сестренкам картофелины. А вот нас отрывают друг от друга и мама кричит: «Сынок, помни имя свое. Запомни, тебя зовут…» На этом звук терялся, но я видел лицо мамы, слышал ее голос: «Сынок, помни имя свое!» …Неземная Мама махнула мне рукой, мол, не отчаивайся, я с тобой, и видение исчезло. Я закричал: «Мама, мама!», проснулся, прислушался: во сне стонали и что-то бормотали другие дети. Утром, как всегда, многие из них оказались мертвы. К удивлению Йозефа Менгеля и его окружения, я пошел на поправку и выздоровел.
Освобождение - еще не свобода
Много лет спустя, уже в 70-е годы, я работал на Байкальском ЦБК. Мне довелось познакомиться с актрисой Людмилой Касаткиной, которая приезжала на Байкал со съемочной группой. Она очень подробно выспрашивала у меня о Саласпилсе и Освенциме, о том, как вела себя моя мама, сестренки. В фильме «Помни имя свое», где Касаткина сыграла роль мамы маленького узника фашистского концлагеря, во многом прослеживается моя жизненная линия. Героиня фильма, когда немцы уводят ее сына, как и моя мама, кричит: «Помни имя свое!». Как и я, мой прототип, после всех мучений оказался в оккупационной зоне Великобритании. Как и меня, его долго лечили в госпитале. Мне уже было 10 лет. За 4 года, проведенные в Освенциме, высохшая кожа так стянула позвоночник, что он искривился, подобно стволу деревца, которому некуда расти. Ноги и руки у меня, как и у всех узников Освенцима, тоже были кривыми. В самом конце войны Менгель и его окружение пыталось вывезти свою лабораторию и оставшихся в живых узников из Освенцима в другое место. По дороге мы попали под бомбежку. Меня ранило и контузило, глаза вывернулись белками наружу. Я не видел, не слышал, не ходил, не говорил. Меня больше года лечили и выхаживали в специализированном госпитале. Как и меня, киногероя усыновили добрые люди. Только его - женщина из Польши, а меня – железнодорожник из Чехословакии.
Летом 1941 года 6-летний сын советского офицера Витя Ефимов попадает в фашистский концлагерь Саласпилс, потом - Освенцим, где над ним ставили бесчеловечные опыты. В конце Второй мировой войны, страшно изуродованный, он оказывается в оккупационной зоне Великобритании. Вместе с другими детьми Освенцима его отправляют на лечение в Англию.
Мой верный друг Джек
- Первое мое впечатление, когда я пришел в себя, стал немного слышать, видеть и приподнимать голову, это вид из окна: чистая зеленая лужайка, река, на берегу – деревья с округлой кроной. В палате белые стены, белый потолок, на кроватях с белыми постелями лежат еще трое ребят. Открывается белая дверь и в палату входит чернокожий человек, у которого что-то горит и дымится во рту. «Это - черт!» - думаю я и от страха кричу, зову на помощь. «Черт» подбегает ко мне, вынимает из своего рта то, что дымилось, и сует мне в рот. Невольно заглатываю дым и отплываю. Когда прихожу в себя, «черт» протягивает мне руку: «Джек», - бережно пожимает мою ладонь, что-то ласково говорит на незнакомом языке, а глаза у него добрые-добрые. Когда мы с ним научились изъясняться, он с чувством вины объяснял, что тогда очень растерялся. Он знал, что детям надо что-нибудь дать, чтобы они не плакали. Но ничего, кроме сигары, у него не было. Джек, как и другие молодые африканцы, служил в госпитале нянюшкой. Он кормил меня с ложечки, выносил на руках на зеленую травку к реке, учил английскому, сопереживал, когда мне выравнивали позвоночник на кровати с функциональным основанием. Это было больно. Выправив позвоночник, мне исправляли грудную клетку. Полгода я ходил в гипсовом корсете. Потом Джек учил меня ходить, напевал что-то веселое, когда от боли у меня проступали слезы. Все, что было до войны, у меня стерлось из памяти в Освенциме. Я помнил только лагерные порядки. Джек был первым в моей послевоенной жизни человеком, от которого я узнал любовь, заботу, ласку.
Когда я стал лучше видеть, то в некоторых взрослых, одетых в белые халаты, узнал людей из лаборатории Йозефа Менгеля. Но теперь они ходили под конвоем. У них были виноватые лица. Они говорили тихим голосом и при виде нас, детей из концлагерей, опускали или отводили в сторону глаза. Потом я узнал, что освободившие нас английские военные были поражены видом детей-узников Освенцима. Военные медики сделали все, чтобы мы остались живы. Но они не имели опыта по лечению последствий, возникших от длительного голода, побоев, страха, опытов по выкачиванию крови, спинного мозга, перелому и заживлению костей, замораживанию и размораживанию, испытанию рефлексов мозга с помощью электродов... Представители Великобритании обязали медперсонал Менгеля исправить то, что они натворили. Потом, конечно, их все равно судили как совершивших небывалое преступление против человечности.
В госпитале было много детей из Польши, Чехословакии, Югославии. Мы быстро находили общий язык и говорили на смешанном польско-чешском наречии. С медиками общались на немецком. Никто не мог определить мою национальность. И сам я не мог вспомнить свое имя и страну. В концлагеря немцы обычно отправляли детей евреев, русских, украинцев, белорусов. Но если меня за 4 года не сожгли в крематории, не удушили в газовых камерах, значит, я- не из них. Все решили, что я чех и стали называть меня Вацлавом. А еще у меня была кличка - «седой». В Великобритании нас лечили более полутора лет. Я стал видеть, слышать, потихоньку ходить. Шел уже 1947 год, когда Чехословакия затребовала вернуть своих детей. Среди них было много ребят из сожженной немцами деревни Лидица. Меня причислили к ним.
На руках через всю Прагу
- Из Англии нас доставили в фильтрационный лагерь, расположенный в очень красивом местечке Чехии - Градец Кралове (в переводе – королевский город), близ деревни Тщесовице. Туда приезжали взрослые люди из Чехии, Словакии, Югославии, Польши – искали своих детей. И некоторые находили. В 1947 году в Праге проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, направленный против диктаторских режимов, войн, фашизма и нацизма. Нас, детей из фильтрационного лагеря, кто еще не нашел родителей, очень хорошо одели и повезли на праздник. Участники фестиваля встречали нас на вокзале с цветами, конфетами, что-то дарили, а потом несли на руках от памятника Яну Гусу, что стоит на площади недалеко от вокзала, через всю Прагу к знаменитому Карлову Мосту через реку Влтаву, с его удивительными скульптурами, чугунными перилами сказочной ковки. Мы были главными героями фестиваля. Звучали речи о том, что мы - безвинные жертвы войны, что нельзя допустить, чтобы в истории человечества повторились Лидица, Освенцим, Дахау…
Меня нашел папа Карл Крайчович!
-После фестиваля нас поместили на жительство в приют близ курортного местечка Бездеце. Всех очень красиво одели, хорошо кормили. Сюда тоже приезжали люди разных национальностей в надежде отыскать своих детей. Мы с надеждой встречали каждого взрослого человека – мужчину или женщину: вдруг это за мной? И вот в какой-то день в приют пришел мужчина средних лет, с очень добрым лицом и внимательным взглядом. Судя по одежде и речи – чех. Он внимательно смотрел на нас, мы – на него. И вдруг он обратился ко мне: «Ты – Виктор?». У меня что-то дрогнуло в груди, в памяти как сквозь туман всплыл образ мамы, ее далекий голос: «Сынок, помни имя твое. Тебя зовут Витя, Виктор… ». Я кивнул чеху: «Да, я Виктор». Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал, стал радостно тискать. По его лицу текли слезы. Я тоже плакал, не зная, кто этот человек. Потом он назвал себя: «Карл Крайчович», - рассказал, что он здесь по наказу моей мамы. Она находилась в женском концлагере Метхаузен, который освободили войска США, и попала в один из фильтрационных лагерей Чехии. Карл Крайчович искал свою семью в фильтрационных лагерях американской зоны, а моя мама – нас, своих детей. Карл Крайчович помог ей побывать везде, где могли оказаться малолетние узники. Она нашла дочерей Таю и Люду, а от меня – ни следа. У нее кончался срок пребывания в демаркационной зоне. Надо было или выбирать новую родину – США, Великобританию, Францию, или возвращаться в Советский Союз. Мама просила Карла Крайчовича, чтобы он, даже когда найдет всех своих родных, продолжал искать ее сына. Главная моя примета – голубые глаза и седые волосы. Карл Крайчович говорил, что узнал меня сразу, но на всякий случай спросил имя. Мама уверяла, что я должен его помнить. Пока решится моя судьба, пока я попаду в СССР к маме, этот добрый человек предложил пожить в его семье. Так я стал Вацлавом Карловичем Крайчовичем.
Родные, незабываемые Крайчовичи
-У Карла Крайчовича в местечке Горни Подлужи был свой дом, с садом, огородом и разной живностью. Он работал железнодорожником, а его жена занималась домашним хозяйством. В семье было пятеро детей: Янушка, Зденка, Отто, Карл-младший, Ярек и я шестой по счету, по возрасту - средний. Меня определили учиться в «народну школу». В классах занималось по 10 учеников. Учителя были только мужчины – строго одетые и очень интересно излагающие свои предметы. А преподавали нам те науки, что, прежде всего, пригодятся сельскому труженику: географию, ботанику, биологию, математику, литературу и, конечно, Закон Божий. Утром в класс входил фалаш (чешский священник). Мы бесшумно в благоговении вставали. Он осенял себя и нас крестным знамением, приветствовал: «Помогий, Пан Иезус Христос!» (Спаси всех, Господь Иисус Христос!), - мы отвечали тем же приветствием, читали хором «Отче наш», и учитель начинал урок.
Все дети Крайчовичей учились в школе, а после занятий принимались за домашние дела. Кому исполнилось 12 лет, уже где-нибудь подрабатывали. Я тоже помогал по хозяйству, а потом отец (Карла Крайчовича я называл отцом, а его детей считал и до сих пор считаю своими братьями и сестрами) пристроил меня в ресторанчик при отеле «Славия». Там я помогал хозяину, пану Зденеку, на кухне и быстро научился готовить национальное блюдо - кнедлики. Считается, если чех не поест раз вдень кнедликов, он теряет лицо. Некоторые посетители ресторанчика, заказывая кнедлики, спрашивали: «Готовит русский?» Узнав, что кто-то другой, откланивались, мол, звиняйте, панове, зайдем позже. Я старался угодить людям и делал все, чтобы Карл Крайчович гордился русским сыном. За год я освоил курс народной школы. В гимназии Дольни Подлужи меня сразу взяли в класс выше, чем полагалось после народной школы. В воскресенье вся семья Крайчовичей шла в церковь. Я узнал, что на образочке, который не раз спасал меня в Освенциме от крематория и газовой камеры, изображен пророк Илия. А в лике Царицы Небесной на большой церковной иконе я признал Ту, которая посетила меня, умирающего от тифа, привитого в лаборатории Менгеля. В се-
мье Крайчовичей мне жилось очень хорошо. Но вот сквозь это «хорошо» постоянно пробивалась мысль, что где-то в Советском Союзе меня ждет мама, сестры и, может быть, вернулся с войны отец. Я написал в консульство СССР в Праге, а потом с Карлом Крайчовичем мы туда поехали. Вообще он не раз отговаривал меня от возвращения на Родину, объяснял, что русские люди – хорошие, что весь мир им обязан победой над фашизмом, но сталинский режим – не лучше гитлеровского, а в СССР
меня ждет новый концлагерь. Но мне не хотелось верить в это…
На Родину под конвоем
- Из консульства меня уже не отпустили в семью Крайчовичей. Учиться в гимназии тоже не разрешили. И вообще не разрешали покидать территорию консульства. Относились ко мне без вражды, но и без участия. По-русски я не говорил. Не раз меня
допрашивали с переводчиком: кто, откуда, как попал в Освенцим? Что делал в Англии? Как оказался в семье Крайчовичей? Спустя полгода меня перевезли под конвоем в фильтрационный лагерь под Веной. Кого там только не было: советские военнопленные, молодые люди, подростками угнанные на работы в Германию и достигшие там совершеннолетия, власовцы, казаки, поддержавшие на Дону и в Краснодарском крае немецкий режим. Власовцев и казаков сразу отправляли в СССР, в лагеря. Остальных, в том числе и меня, допрашивали и допрашивали. С довоенного детства в моей памяти сохранилась одна картина: большая река и огромная плотина. До войны в СССР была всего одна большая ГЭС – Запорожская на Днепре. По этому факту НКВД установило мою личность и то, что в Запорожье у меня живет тетя по линии матери. В товарном вагоне из Австрии через Венгрию и Румынию меня отправили в СССР. В Будапеште и Белграде стояли по месяцу, где опять допрашивали. И только через 8 месяцев после выезда из консульства СССР в Праге меня доставили на пограничную станцию Чоп, а оттуда - во Львов, где еще не раз допросили и отобрали личные вещи. А меня Карл Крайчович снабдил хорошими вещами.
Побег
- В Запорожье меня поселили в комнате матери и ребенка на вокзале. Конвой сняли, но ходить дальше привокзальной площади запретили. Допрашивали каждый день и по нескольку раз в день. Иногда и руки прикладывали. Я плохо говорил по-русски, переводчика здесь не было. Впервые на допросах я услышал: предатель, шпион иностранной разведки. Я это отрицал и отказывался подписывать любые бумаги. Так меня научил безногий матрос-фронтовик, который просил на вокзале милостыню. У него я учился русскому языку, спрашивал значение слов из книги «Кавказский пленник», которую как-то мне протянула женщина на вокзале: «Я прочитала. На, читай и ты». Однажды энкавэдэшники после очередного допроса с рукоприкладством заявили, что меня, как предателя и шпиона, будет судить военный трибунал по статье 58 УК с литерой «СОЭ»- социально опасный элемент, мне грозит 15 лет лагерей. Я рассказывал безногому другу и от обиды плакал. «Знаешь что? А ты не жди, когда тебя отправят по этапу. Беги в Одессу. Найдешь там маршала Жукова Георгия Константиновича. Он, только он тебе поможет». Матрос рассказал, кто такой Жуков, назвал его адрес в Одессе, показал под вагонами большие деревянные ящики, в которых железнодорожники прятали лопаты, ломы и другой инструмент. Мол, ты худой, заморенный, поместишься. Если на какой станции откроют и вывалишься – беги. Ноги, слава Богу, есть! Догонят, не говори, кто ты и что тебе 14-й год. С виду тебе 10, сойдешь за сироту, каких тысячи. Отпустят. Мы посмотрели расписание поездов, продумали маршрут, и в ту же ночь я бежал. Спустя две недели в своем подвагонном «купе» я услышал объявление: поезд прибыл на станцию Одесса.
Одесса-мама
-За две недели пути, проведенные под вагоном, я сильно ослабел. Денег на проезд у меня не было. И я плохо говорил по-русски. Подходил к кому-то из прохожих с добрым лицом, показывал клочок бумаги с адресом Жукова, который мне написал безногий матрос, и шел дальше. Как я уже говорил, во Львове, при допросах, энкавэдэшники отобрали у меня личные вещи. Я остался в скаутской форме: защитного цвета брюки, курточка, рубашка и зеленый галстук с голубой каемкой. И хотя одесситы в своей массе были одеты бедно и пестро, но моя скаутская форма привлекала внимание. Какие-то люди приняли меня за немца и доставили в лагерь военнопленных, которые отстраивали разрушенную Одессу. Объяснил старшему среди них, кто я и зачем в Одессе. Одно слово «Освенцим» вызвало у немцев горячее сочувствие. Меня стали отговаривать от дальнейших поисков Жукова. Мол, зачем тебе СССР и Сталин с его лагерями? Нас скоро освободят. Уедем в Германию. Один баварец при условии, что я останусь, а потом уеду в Германию обещал отдать за меня свою красавицу дочь. Даже фотографию показал этой девочки. Но мне не нужна была Германия. Я хотел жить на Родине и найти свою мать, сестер. Узнать, где отец. Из лагеря военнопленных меня неожиданно отпустили.
В гостях у Жукова
-Дом Жукова, кажется, это был двухэтажный особняк с садом, оказался под охраной. Я сел поодаль на обочине и стал ждать в расчете, что, когда к дому подъедет Жуков, я подойду к нему и все расскажу. Вдруг за ворота дома выбежала девчонка-подросток: смуглая, черноглазая, две косички с бантиками. Своим видом она напомнила мне птенца-галчонка. Девочка подбежала ко мне и резко, но без враждебности, спросила:
- Что тебе, немчура, надо? Что ты тут высматриваешь?
- Я русский. Ищу вот этого человека.
Я протянул ей листок с записью: «Жуков Георгий Константинович».
- Это мой отец. А зачем он тебе?
- Это я только ему скажу, - ответил я со значением.
«Галчонок» постояла, подумала и сказала:
- Ладно, пойдем в дом. Что ты тут будешь сидеть. Отец, бывает, и до ночи работает, а то и совсем не приезжает…
Часовой преградил мне путь, но «галчонок» заявила, что я – ее друг, и, если меня не пропустят, она пожалуется отцу и тот вообще его выгонит. Поупиравшись, часовой сердито сказал: «Да делайте вы, что хотите!» «Галчонок», кажется, ее и звали Галей, предложила мне вымыть руки и накормила пельменями. После двухнедельного голода мне так скрутило живот, что пришлось вызвать врача. Тот дал лекарства, велел лежать. Не прошло и часа, как в гостиную вошел мужчина средних лет, среднего роста, довольно плотный, в гражданском, брюки заправлены в высокие хромовые сапоги. «Что тут у вас происходит?» - спросил он, ласково обращаясь к дочери, окинув меня внимательным взглядом. «Папа, это к тебе. Он сам все расскажет». Я забыл про боль, быстро вскочил, стал говорить, с трудом подбирая русские слова. Жуков предложил мне пройти в кабинет, сесть и стал задавать вопросы на немецком. «Галчонок» без спроса вошла в кабинет, то и дело спрашивала: «Папа, а что ты его спросил? А что он тебе ответил? Переведи. Я тоже хочу знать!» В конце нашего разговора Жуков спросил, помню ли я фамилию сотрудника НКВД, который «шьет» мне дело? Я назвал. Жуков поднял трубку телефонного аппарата, велел соединить с Запорожьем и строгим тоном сказал: «Капитана Филиппенко». На том конце провода, видимо, ответили, что уже поздно и капитана Филиппенко нет. Жуков приказал, чтобы Филиппенко тут же был. Там, видимо, спросили: «Кто спрашивает?»
- Кто, кто? Жуков! – Через две минуты требуемый объект доложился в телефон по всей форме.
- Ты, придурок, немедленно подавай рапорт об увольнении! Что б завтра же тебя в армии не было!
Жуков сказал еще пару резких фраз в телефон, спокойно повернулся к нам с «галчонком», мол, все вопрос решен. Маршал велел отвести меня в ванную, подобрать
одежду, выделить отдельную комнату, и чтоб я погостил у него с недельку.
Что же ты делаешь с нами, Родина?!
- В Запорожье, прямо у купейного вагона, меня встречал незнакомый представитель НКВД. Услужливо взял чемодан, подаренный Жуковым, донес до автомобиля. Это были последние минуты свободы перед арестом и судом. Меня все-таки признали предателем Родины, но дали не 15, а 3 года с поражением прав на этот же срок, после отбытия наказания. «Беспроволочный телеграф» на зоне под Норильском уже отстучал: кто прибывает с очередным этапом и за что? Меня встретили словами: «Добро пожаловать на лучший курорт СССР по путевке товарища Сталина долечиваться после Освенцима!». Контингент лагеря составляли уголовники, военнопленные и политические. Последние были людьми образованными, старались соблюдать культуру общения, насколько это слово можно применить к условиям зоны. Уголовники и военнопленные политических не любили, но меня никогда не трогали. А если кому-то приходила посылка или кто-то нелегально раздобывал продукты, все со мной делились. Меж собой уголовники и военнопленные тоже не ладили. У всех были чуть ли не пожизненные сроки и жестокий опыт прошлой жизни. Между ними часто возникали драки, когда в ход шли ножи, бритвы, ломы, свинчатки. Работали мы очень тяжело: выколачивали из шлака остатки меди, а шлам грузили в вагонетки, толкая их впереди себя, выкатывали на вершину террикона и там опрокидывали. Кормили нас тюрей, иногда давали ржавую селедку. Некоторые заключенные не выдерживали нечеловеческих условий – бежали. Их догоняли и пристреливали. Многие болели и умирали.
Невыносимо!
- После отбывания срока я не имел права учиться, жить в областных городах и вообще жить без надзора спецорганов. Меня отправили в Украину, на станцию Пятихатки, определили работать на железную дорогу. Мне было так тяжело морально и физически, что, вспомнив опыт путешествия в Одессу, я сбежал. В Запорожье у тетки меня тут же взяли, проработали и вернули в Пятихатки. Я опять бежал. На этот раз тетка отвела меня в родовой склеп на кладбище (как я узнал, мои предки до революции были людьми не бедными) и велела ждать до лучших времен. Уже умер Сталин, и эти времена зрели. В Освенциме и на зоне за Полярным кругом я столько насмотрелся смертей, что нисколько не боялся мертвых. Перед сном «пожимал» костяшки ладони прадеда, мол, дедушка, охраняй мой сон, ложился рядом и спокойно спал. НКВД приходило с обыском к тетке на квартиру, но ни разу не сунулось в склеп. А вскоре наступила амнистия, известная в истории как «холодное лето 53-го».
Завод, армия, институт
- В очень нелегкие моменты жизни мне всегда помогали евреи. Вот и в 53-м тетка через знакомого еврея устроила меня на завод «Запорожсталь» учеником слесаря КИПиА. В то время это была новая и очень престижная специальность. По вечерам я занимался в вечерней школе, а в воскресенье (тогда это был единственный выходной день) шел в церковь. На подходе к храму всегда дежурили бригадмильцы – комсомольцы, оказывающие помощь милиции в борьбе с антиобщественными явлениями, каковым считалась и религия. Старушек они не трогали, а меня не только словами пытались убедить, что Бога нет. На службу я частенько приходил изрядно потрепанным, с разбитым носом. Вообще, драться за кусок хлеба, брюквы или горсть шпината меня научил Освенцим. Но в случае с бригадмильцами силы были неравные: они – здоровые, сытые, а я – с 6 до 10 лет заморенный в фашистском концлагере, а с 14 до 17 – в сталинском ГУЛАГе. Священник о. Александр показал мне вход в церковь через потайной подвал и посоветовал стоять в храме за колоннами. По совету тети я записался в спортзал на самбо, чтоб хоть немного набрать мышечную массу. Приемы освоил быстро, и уже воинствующие комсомольцы получали отпор за хулу на Бога. Да так, что меня дважды вызывали в милицию. Жизнь понемногу налаживалась. Объявилась в Запорожье и вскоре вышла замуж старшая сестра Люда. Дала знать о себе из Иркутска младшая Тая. Только о маме – ни весточки. Я сдал экстерном экзамены за курс семилетки (это как сейчас 9 классов) и взялся за курс десятилетки, как вдруг получил повестку в армию. На призывной комиссии врач посмотрел мою справку об инвалидности 1-й группы и безапелляционно изрек: «У нас таких инвалидов – половина СССР. Иди служить». Шел 1956-й год. Хрущев с трибуны ХХ съезд КПСС развенчал культ личности Сталина. Часть, в которой я служил, с пограничной зоны под Кутаиси срочно перебросили в Тбилиси. Там весной 56-го творилось такое, как зимой 2009 года устроил Саакашвили. После наведения порядка в столице Грузии часть расформировали, а нас – кого куда. Я попал под Байконур. Служил заправщиком топлива. При мне запускали в космос Белку и Стрелку. После демобилизации сдал экстерном курс десятилетки, поступил на вечернее отделение Запорожского филиала Днепропетровского металлургического института. Из рабочих меня быстро перевели в ИТР, а за одно большое рацпредложение премировали черной «Волгой». Честно, я не знал, что с ней делать. И тут опять меня выручил еврей. Мол, давай меняться: ты мне «Волгу», я тебе – 2-х комнатную квартиру. Оформление документов он полностью взял на себя.
Мама, белая голубушка
- Квартира оказалась как нельзя кстати: отыскалась мама. После Освенцима я все же вспомнил ее образ: синеглазая, светловолосая, в нарядном платье и туфельках на каблучке. А при встрече я увидел седую старуху в зековской телогрейке. От прежней мамы остались только глаза: большие, добрые. Но столько боли светилось в их синеве! Моя мама. Она сразу узнала меня по седым волосам и упала в обморок. А потом мы провели вместе много вечеров. То молчали, то не могли наговориться. В немецком концлагере над ней тоже ставили опыты. Вживили в головной мозг электроды, выводили зимой нагую на улицу, обливали водой, подключали датчики и фиксировали реакцию организма. Она знала, что такие же опыты врачи-фашисты проводят над деть-
ми. Замерзая, мама мысленно закрывала нас, своих детей, от уколов, электродов, выкачивания крови, а когда приходила в себя, мысленно лечила нас, молила Бога и Богородицу спасти и сохранить…
После возвращения из плена в СССР маму тут же осудили как предателя Родины. Как военный фельдшер, она не имела права сдаваться с малолетними детьми на милость врагу. Срок отбывала на Дальнем Востоке. Сразу после развенчания культа
личности Сталина выехать в Запорожье не могла, да и опасалась своим возвращением запятнать биографию девочек. Увидеть меня живым она не надеялась…
Сибирь: Байкал, Ангара
- Деканат готовился торжественно вручить мне «красный» диплом. И тут я опять попал в ползрения НКВД, переименованного в КГБ. Из беседы-допроса, устроенного сотрудниками этого ведомства, выходило, что узник Освенцима и реабилитированный зэк, верующий в Бога, не желающий вступать в комсомол, не достоин «красного» диплома и вообще не имеет права на высшее образование. Опять меня выручил еврей – декан факультета Моисей Дионисович Потебня. Он тет-а-тет шепнул: мол, выдам тебе синий диплом, а ты немедленно уезжай. И я поехал в Иркутск, где жила после выхода из детдома моя младшая сестренка Тая. Устроился в проектное управление «Оргбумдрев», занимался пуском и наладкой оборудования на Байкальском ЦБК. В 68-м проходил военную переподготовку на о. Даманский, где в разгаре был военный конфликт с китайцами. Помог разобраться в чертежах и запустить установку «Град».
Потом опять жизнь потекла своим чередом. Длительные командировки на Сахалин, Дальний Восток, в Приамурье, Забайкалье и другие места, где работали или пускались целлюлозно-бумажные комбинаты и надо было монтировать приборы КИПиА. Наконец, в 1974 году меня вызвали на Усть- Илимский ЛПК. Курировал поставки импортного оборудования. Продвинулся до заместителя главного инженера целлюлозного завода по КИПиА. Моя кандидатура как специалиста, владеющего несколькими иностранными языками, фигурировала среди претендентов на должность постоянного зарубежного представителя по поставкам импортного оборудования для УИ ЛПК. Но… Помню, руководитель так называемого первого отдела дирекции строящихся предприятий УИ ЛПК со словами: «Скрытный вы, человек, Виктор Степанович Ефимов», - учинил мне допрос с подробным письменным изложением событий давно минувших дней. Вскоре я передал дела Александру Власовичу Шевелеву, а сам, как и раньше, занимался приборами и оборудованием КИПиА в пределах цехов и участков. Так проработал до 2003 года. Последние пять лет - бригадиром КИПиА. Вырастил троих сыновей. Есть внук, которого назвали в честь прадеда, моего отца, погибшего на Курской Дуге. Сейчас я служу Богу.
От автора. Когда идет литургия и совершается Таинство претворения хлеба и вина в Кровь и Тело Христово, священник с особой, установленной церковью молитвой, вынимает частицы из просфор и соединяет с вином, а алтарник, тоже с церковной молитвой, читает имена живых и усопших. Эта алтарная молитва имеет высшую силу. Я спросила Виктора Степановича, молится ли он за своих мучителей и обидчиков? Он кивнул утвердительно: «За всех: и Йозефа Менгеля, и капитана Филиппенко…» А потом добавил, что души бессмертны как у праведников, так и грешников. Последние испытывают такие адские муки, какие на земле и не представить. Для облегчения этих мук и участи после Страшного Суда важно, чтобы хоть одна живая душа на земле, подражая Господу на кресте, тихо обратилась ко Творцу: «Прости им, Отче. Яко не ведают, что творят».
Ефимов, В. С. Алтарник: [воспоминания узника концлагерей Виктора Степановича Ефимова / записала Надежда Зинченко] // Вестник Усть-Илимского ЛПК. - 2010. - 25 июня. - С. 6; 2 июля. - С. 6: фот.; 9 июля. - С. 6: фот.